текст: Иван Козлов
Путь зачаровывания:
Артём Филатов
и подростковая
арт-резиденция в PERMM
Артём Филатов
и подростковая
арт-резиденция в PERMM
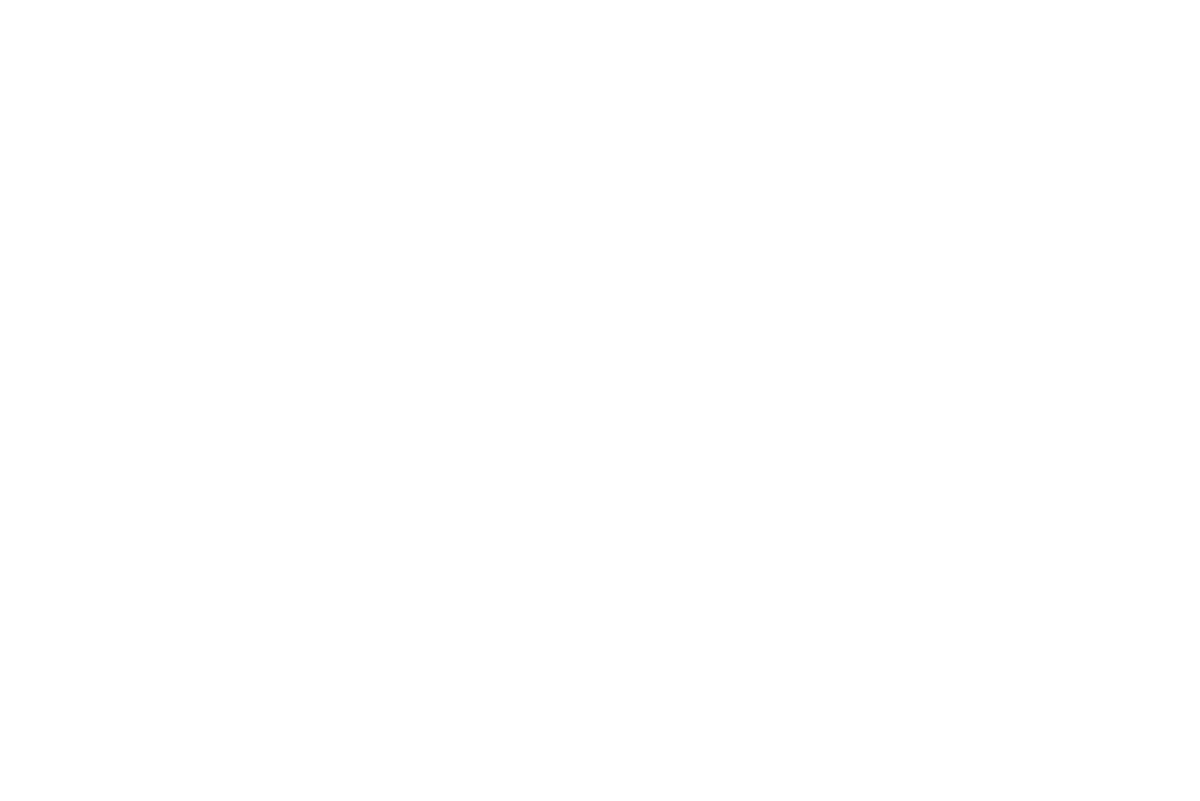
на фото: Артём Филатов (автор фото: Кирилл Логинов)
Выставка «Я не с краю» в августе 2020-го стала итогом арт-резиденции, которую музей PERMM организовал для подростков, живущих в разных микрорайонах города — иногда центральных, а иногда очень отдаленных. В течение нескольких дней они изучали улицы и дворы Балатово, чтобы на основании своих впечатлений создать полноценную выставочную экспозицию. Компанию им составил Артём Филатов — художник, городской активист, куратор и один из самых востребованных российских авторов, специально приглашенный музеем PERMM из Нижнего Новгорода. Мы попросили его поделиться впечатлениями от работы с подростками и взглядами на современное уличное искусство.
— Во многих материалах, посвященных тебе и твоей деятельности, ты назван «уличным художником» или «стрит-артистом», но можно заметить, что в последнее время ты дистанцируешься от этих определений. Так ли это и почему?
— Стоит начать с того, что в прошлом году мы с куратором нижегородского ГЦСИ «Арсенал» Алисой Савицкой написали книгу под названием «Краткая история нижегородского уличного искусства». Эта книга — такой срез опытов с начала десятилетия и до 2018-го года, связанных с уличным искусством и художниками, — причем не только с авторами, с которыми мы работали, но и с моим личным опытом. Да, книга написана в прошедшем времени: мы исходили из того, что то уличное искусство, которое существовало в 2014 – 2015 годах, больше не существует в прежней форме: город меняется, меняется политическая адженда («повестка дня» — прим. ред.), меняется тип коммуникации с аудиторией на разных площадках, и художники и город начинают жить разными типами взаимодействия. На данном отрезке времени мои интересы с уличным искусством расходятся в практической плоскости, но то, что происходит в теоретической плоскости, для меня интересно и важно. Правда, тут надо понимать, что на практике в современном уличном искусстве создается намного больше, чем в теории: очень нечасто эксперты, искусствоведы или критики заходят на территорию субкультуры, изучают ее и выносят суждение — это больше исключение, чем правило.
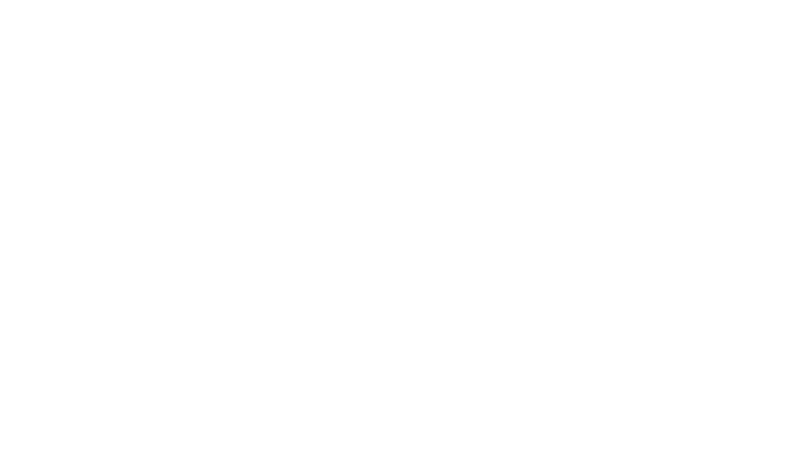
Алиса Савицкая, куратор
Презентация книги Алисы Савицкой и Артема Филатова «Краткая история нижегородского уличного искусства» (Нижний Новгород, фото: Алексей Шевцов)
А в чем практическое расхождение?
Конечно же, претензии существуют, как и претензии к любому другому направлению в современном искусстве. Это зависит от того, с чем мы сталкиваемся — это могут быть масштабные фестивали при поддержке нефтедобывающих компаний или государства, могут быть отдельные художественные стейтменты (буквально — «официальный отчет» — прим. ред.), не релевантные тому, как развивается городская территория и общественные пространства в России. Но для меня, как и для сообщества нижегородских художников, важно не то, что ты уличный художник, а то, что ты в принципе художник. Авторам важно разрабатывать отношения с аудиторией и с окружающей действительностью, и для этого не обязательно находиться на определенном субкультурном островке. Многие художники в России занимались уличным искусством, а потом перешли в контемпорари арт — и именно это демонстрирует, что для них важнее заниматься искусством, а не концентрироваться на маленькой территории.
важно не то, что ты уличный художник, а то, что ты в принципе художник. Авторам важно разрабатывать отношения с аудиторией и с окружающей действительностью, и для этого не обязательно находиться на определенном субкультурном островке.
У тебя сформирована очень четкая и конкретная система взглядов на то, каким должно быть уличное искусство, и вот ты приехал на резиденцию для работы с подростками, которым предстояло впервые попробовать себя в роли уличных художников. Что тебе казалось принципиальным донести до них в первую очередь?
Вряд ли моя задача была в том, чтобы что-то донести и рассказать: в действительности я был проводником и даже иногда ведомым. Во-первых, я впервые в Перми, и я не могу приехать и рассказать туземцам, как им жить и воспринимать собственный город. Я, наоборот, должен тщательно учиться у местных, пытаясь понять, как все это устроено — и я думаю, за десять дней, которые я тут находился, непросто понять, из чего состоит Пермь и как она функционирует. Но при этом я обладаю определенным художественным знанием, которое достаточно легко передается — начиная от материалов и форматов работы и заканчивая небольшими художественными теориями, которые может воспринять даже подросток.
Искусство — это не такая философская территория, для нахождения на которой необходимо окончить университет. Такого снобизма здесь нет.
Искусство — это не такая философская территория, для нахождения на которой необходимо окончить университет. Такого снобизма здесь нет. Важно, что эта резиденция — процессуальная история, мы не столько работаем на результат и выставку, на единичное произведение, которое может стать частью истории искусства, сколько пытаемся взглянуть вперед: может быть, кто-то из этих авторов, вдохновившись этим опытом, захочет заниматься искусством; может, кто-то расширит горизонт и будет иначе относиться к пространству и к искусству. Может, кто-то, кто раньше был скептичен по отношению к таким практикам, продолжит вытаскивать себя из теплых уголков в территории более агрессивные и странные. И вообще искусство способно научить другого человека полюбить другое, полюбить неизвестное, перепрограммировать свои устоявшиеся отношения с вещами и пространством.
на фото: Артём Филатов и участники арт-резиденции (автор фото: Кирилл Логинов)
В качестве полигона вы выбрали микрорайон Балатово — молодой, во многом состоящий из панелек, без каких-то особых памятников и ценностей. Вероятно, это было не очень легко.
У Балатово есть свой собственный фон и история: тот же самый советский модернизм — это целая эпоха, достойная осмысления. Но, если нашей группе интереснее модернизм или советские фрески, это еще не значит, что подростки будут смотреть на них так же. Участники нашей резиденции выбрали свой собственный путь, это путь зачаровывания и заколдовывания Балатово. Для человека, который приезжает сюда впервые и изучает микрорайон с нуля, это возможность понять его, принять и расширить его восприятие для себя, ведь за короткий срок тебе трудно понять, как он функционирует. А для людей, которые там живут постоянно это возможность сохранять тот самый уют, который для них важен, возможность заново «заворожить» привычное место — ведь чем дольше ты живешь, тем больше привыкаешь к месту, которое рано или поздно становится ординарным и обычным в твоих глазах. В художественных высказываниях подростков мы видим много романтичного, сказочного, мистического, своеобразную надстройку над реальностью, попытку сконструировать картину иного мира. Балатово в этом смысле можно заменить на любой другой район, в котором, конечно, может быть меньше или больше точек интереса.
Участники нашей резиденции выбрали свой собственный путь, это путь зачаровывания и заколдовывания Балатово.
на видео: арт-резиденция «Я не с краю» в музее PERMM (Пермь, 2020),
автор видео: Кирилл Логинов
автор видео: Кирилл Логинов
Заметно, как много проектов в итоге оказались связаны с взаимодействием, с вовлечением местных жителей, с разговорами и общением.
Это сам собой разумеющийся метод в случае, когда ты выходишь в незнакомое пространство — ты пытаешься наверстать упущенное, оказаться ближе к телу района. И ты встречаешься с людьми, которые формируют его таким. Но это многое говорит и о наших участниках: при работе с произведениями они автоматически ставят запрос на то, чтобы эта работа была связана с вовлечением, с таким поул-активизмом, с применением своего высказывания на конкретной территории. Понятно, что это может выглядеть немного наивно, но, тем не менее, это желание сохраняется даже у начинающего художника, и это больше вопрос общего нарратива и веяния, которое присутствует в современном искусстве. Я как приглашенный куратор — адвокат такого подхода: приходя в район, в котором ты являешься гостем, ты должен спросить у местных, что там происходит, что им нужно, и с чем можно работать.
приходя в район, в котором ты являешься гостем, ты должен спросить у местных, что там происходит, что им нужно, и с чем можно работать.
на фото: открытие выставки «Я не с краю» (автор фото: Кирилл Логинов)
Тема городских исследований для нас сейчас вообще очень актуальна. В Перми все больше городских активистов, градозащитников, разных тематических проектов. У тебя тоже есть проекты, связанные с градозащитой, но часто они попадают в СМИ только в момент создания и открытия. И если не жить в Нижнем, то трудно узнать, что случилось с теми или иными зданиями потом. Какие-то из твоих активистских проектов принесли результаты, есть ли удачные кейсы, когда с помощью искусства получилось добиться целей?
Это территория моей личной боли. Искусство всегда остается на своей территории, и, даже если это политическое искусство, нельзя сказать, что оно влияет на изменение ландшафта и на желание людей меняться. Искусство не работает так, что им можно забивать гвозди, кормить бедняков и доить коров. Да, художники делают и такое, но в итоге все это часто оборачивается странным образом, когда художник заходит на территорию соцработников и выполняет их работу еще хуже, чем занимается искусством. Но тем не менее, да, я — один из авторов, ставивших задачи утилитарного плана: с 2014 по 2016 годы я делал фестиваль «Новый город: Древний», он был посвящен художественному переосмыслению проблемы сохранения исторического наследия Новгорода. Какие-то места города после этого предстали в новом свете, обычные двухэтажные дома стали неофициальными достопримечательностями.
Искусство не работает так, что им можно забивать гвозди, кормить бедняков и доить коров.
Это уже, в принципе, немало.
Но у нас есть и примеры домов, которые были расселены и даже снесены после того, как на них были сделаны работы. В одном из таких домов мы пытались помочь женщине в ходе битвы с застройщиком, но там началась криминальная история, и жительница решила, что на фоне давления она примет квартиру и деньги. А мы как активисты, конечно, не могли сказать ей «Нет, как же так, за что же мы боролись?» Надо понимать, что наше желание лучшего будущего не должно стоять выше, чем желание человека улучшить свою жизнь. И дом снесли, но потом мы стали помогать уже соседям, и стройка, в принципе, практически остановилась. Если застройщик решит продолжить строиться, то при действующей нижегородской власти ему не дадут этого сделать.
А есть удачные опыты взаимодействия с властями и вообще официальными структурами?
Были и истории, когда департамент ЖКХ обращал внимание на работу и после этого приводил дом в порядок. Но, все равно, искусство — особенно, уличное — воспринимается по большей части как надстройка, причем не в понимании Маслоу, а как некая блажь. Работы легко закрашивают, их могут повредить. Это отдельная дискуссия, которая каждый раз адаптируется под конкретный случай. Есть люди, которые берегут наши работы и даже снимают их на время, если надо, например, покрасить дом. Но главное в том, что фестиваль «Новый Город: Древний» актуализировал дискуссию и закончился, когда она перестала находиться на прежнем уровне (который заключался в том, что чиновники вместе с девелоперами относились к старым домам как к «гнилушкам»). Сейчас ситуация сильно изменилась, и не только историческое наследие стало частью культурного ландшафта Нижнего, но и уличное искусство вместе с ним.
Можно ли сказать, что этот опыт работы с уходящим и ветшающим наследием подтолкнул тебя к исследованиям в области смерти и памяти? Твой проект с нижегородским крематорием реализован достаточно давно, но на данном этапе, пожалуй, именно он ассоциируется с твоим именем в первую очередь, что легко заметить по СМИ.
Да, прошел уже год, но это проект долгосрочный, и сады там должны быть долго: я думаю, если не навсегда, то сад хотя бы будет там к тому моменту, когда я состарюсь. Конечно, находясь на территории искусства, я не могу заниматься наукой — антропология, death studies как таковые — все это довольно далекие от меня дисциплины. Но да: отрешенное понимание того, что все не вечно, общение со старыми жителями — все это дало очень много для формирования ощущения города как хтонического и тленного, для обращения к вопросам смерти и конечности памяти, ведь тема смерти прямо связана с темой памяти и с тем, как мы ее конструируем. Когда ты работаешь не с «ура-патриотической», а с драматичной, утраченной историей, вопрос политики памяти становится для тебя очень важным, и ты начинаешь говорить о конкретных судьбах конкретных людей. Исторический городской центр подарил мне это ощущение скоротечности и одновременно — понимания того, как можно задержаться во времени и дать каждому свой голос.
ПРОЕКТЫ ХУДОЖНИКА