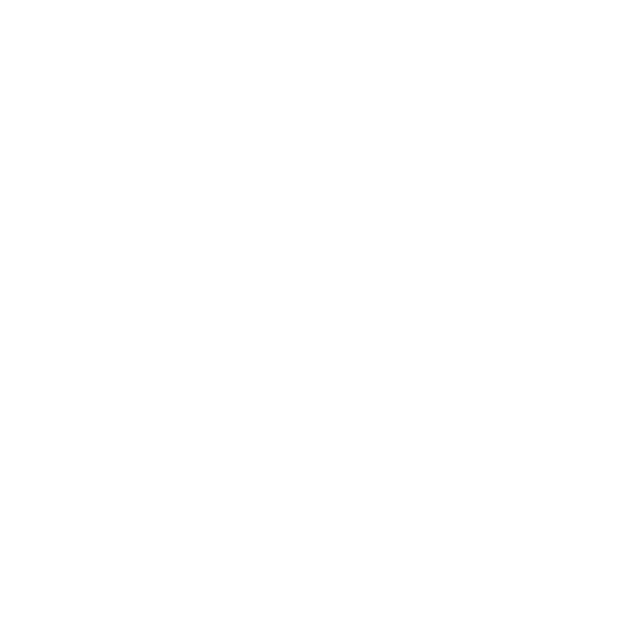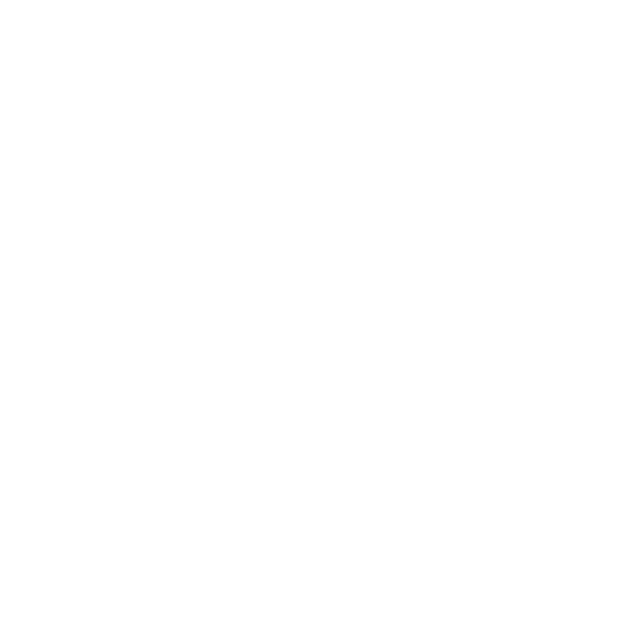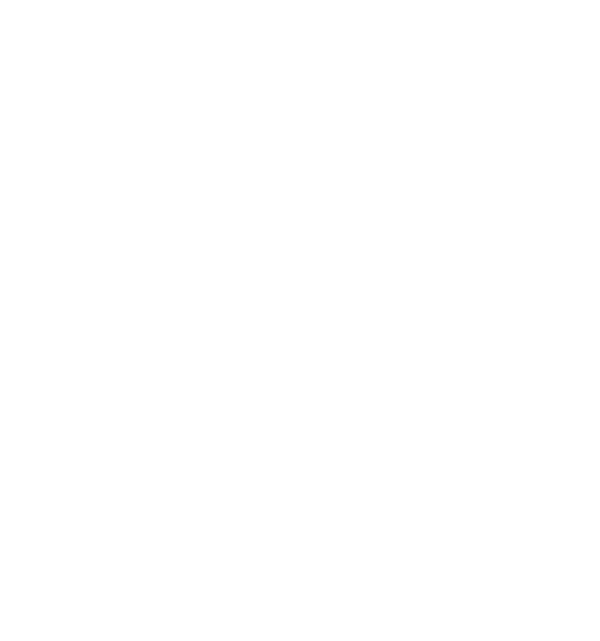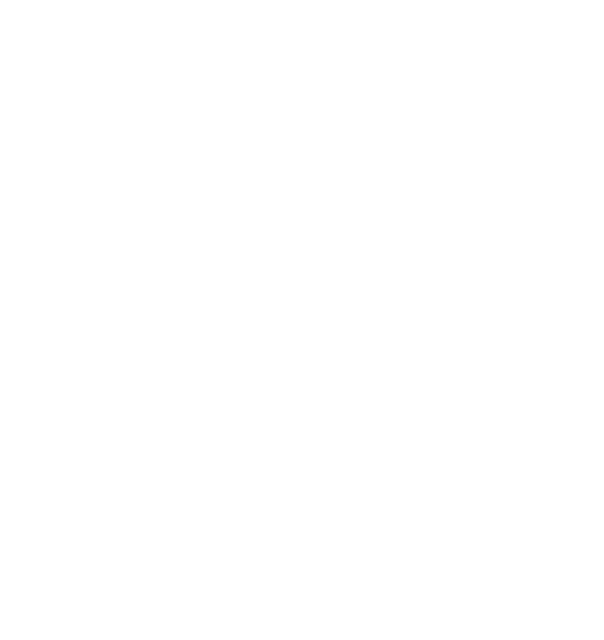В рамках проекта PERMM «Как понять современность» публикуем статью филолога Владимира Абашева — одного из главных людей, которые все время работают над тем, чтобы «понять» — деконструировать, вскрыть, интерпретировать, прочитать современную Пермь. Владимир Абашев анализирует то, из какого воображаемого соткан город-юбиляр, и какие символические кружева зашиты в его ткани.
Чем-чем, а воображением — административным, тем паче — Пермь не обделена: от грез о культурной столице Европы до вечной мечты о новом театре-галерее-зоопарке... Впрочем, что Пермь. Любой город наполовину, если не больше, соткан из воображаемого: историй, памяти, образов, концептов, желаний. Это его символическая основа, ткань. В ней город себя осмысливает, представляет и проектирует. Воображаемое воплощается в практиках — дискурсивных, вещественно-визуальных, телесных — и ими же создается. Оно оседает в знаках и зданиях. Оно реально, живо, насущно и дорого. Иногда оно, воображаемое, более важно для горожан, чем голая реальность.
С какой энергией бились екатеринбуржцы за свою телебашню. Ведь руина же, бетонная труба в центре города — что им она, за что боролись? За воображаемое, окутавшее башню, они боролись вопреки всем доводам рассудка и соображениям пользы. Городское воображаемое это тот плацдарм, на котором место (то, что place) отстаивает и производит свою уникальность в противостоянии spacе — глобальному пространству потоков.
С какой энергией бились екатеринбуржцы за свою телебашню. Ведь руина же, бетонная труба в центре города — что им она, за что боролись? За воображаемое, окутавшее башню, они боролись вопреки всем доводам рассудка и соображениям пользы. Городское воображаемое это тот плацдарм, на котором место (то, что place) отстаивает и производит свою уникальность в противостоянии spacе — глобальному пространству потоков.
текст: Владимир Абашев
КАК РАБОТАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ ПЕРМИ? СЕГОДНЯ
Некогда Д.Н. Мамин-Сибиряк назвал Пермь «измышлением административной фантазии». Сказано давно, звучит едко, но, согласитесь, — и метко, и злободневно.
Разумеется, в сфере воображаемого идет соревнование и соперничество множественных векторов или моделей воображения, которыми руководствуются многообразные субъекты: художники, писатели, краеведы, гуманитарии, музейные работники, политтехнологи, PR-агентства и, наконец, политики, местные власти. В этом соревновании какая-то модель воображения выигрывает и становится если не единственной, то доминирующей в представлении города. О такой доминантной модели пермского воображения мы и поговорим.
Как воображает себя Пермь? Об этом стоит подумать. Тем более, в преддверии трехсотлетия (пусть оно и воображаемое).
фото: Алёна Ужегова, newsko.ru
АЭРОПОРТ
Чтобы потрогать пермское воображаемое, начнем со своего рода экскурсии. Воображаемой. Попробуем представить, как наш город встречает приезжего: что он выставляет перед ним напоказ и чем стремится привлечь внимание, запомниться.
Все начинается с аэропорта. Гость наверняка обратит внимание, что стеклянные стены зала прилета декорированы изображениями причудливых фантастических существ. Это фигуры пермского звериного стиля.
ВООБРАЖАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПЕРМСКАЯ ДРЕВНОСТЬ»








Затем, как правило, гость города поселяется в гостинице «Урал» в центре Перми. Здесь он сразу попадает в пространство, густо размеченное символами. Напротив гостиницы скульптурная композиция «Кама-река», которая — цитирую сайт visitperm — «передает величие и мощь древней истории покорения Урала». Каменные блоки испещрены некими письменами, на камнях — бляхи пермского звериного стиля.
ГОСТИНИЦА УРАЛ
Напротив же гостиницы — универмаг, стекла которого украшены фигурами пермского звериного стиля. Если гость заглянет в универмаг, то найдет россыпь сувениров, среди которых множество стилизованных копий фигур с теми же мотивами.
ЦУМ
СУВЕНИРЫ
Возможно, он решит пообедать в ресторане «Строгановская вотчина», что в гостинице. Здесь на стенах те же изображения пермского звериного стиля. В том же духе декорированы местные алкогольные специалитеты. Нельзя не обратить внимание, что водочные бутылки помечены местом происхождения: Made in Peramaa. Да, именно так — в древней далекой земле.
ЕДЕМ ПО ГОРОДУ
По городу гость Перми будет перемещаться, на трамваях или автобусах с изображением медведя и многообещающим слоганом «Пермский период. Новое время» и пользоваться платежной картой с тем же медведем и надписью «Пермь Великая». В новейшем ТРК «Планета» наш гость снова наткнется на обещание нового пермского периода и будет рассматривать множество инсталляций, варьирующих мотивы пермского звериного стиля.
ИДЕМ ПО ГОРОДУ
В качестве культурной программы он посмотрит пермских богов и посетит Музей пермских древностей с разными палеонтологическими раритетами — мини парк Пермского периода.
Гуляя по центру города, наш гость наверняка обратит внимание на новейшие канализационные люки, отлитые к грядущему 300-летию Перми с одним из ключевых мотивов пермского звериного стиля — медведем в жертвенной позе.
На прощание наш гость обязательно сфотографируется рядом с гостиницей на фоне бронзового мишки. Скульптура называется «Легенда о пермском медведе».
Гуляя по центру города, наш гость наверняка обратит внимание на новейшие канализационные люки, отлитые к грядущему 300-летию Перми с одним из ключевых мотивов пермского звериного стиля — медведем в жертвенной позе.
На прощание наш гость обязательно сфотографируется рядом с гостиницей на фоне бронзового мишки. Скульптура называется «Легенда о пермском медведе».
Возникает вопрос об источнике, а также истории воображаемой пермской древности. Откуда она взялась?
Разумеется, есть у нашей древности вещественная почва, артефакты: пермский звериный стиль, прежде всего. Но в реальности эти миниатюрные плохо обработанные бляшки совсем не так эстетически выразительны и монументальны, какими они предстают в их многочисленных дизайнерских репликах. Наш звериный стиль в каком-то смысле довоображен. Он изобретен современными художниками, дизайнерами и Борисом Эренбургом. Поэт и глава рекламного агентства «Сенатор», он написал колоритную фэнтезийную реконструкцию цивилизации биармийцев — создателей пермского звериного стиля.
Все перечисленные в нашей мини-экскурсии знаки, вербальные и вещественно-визуальные, имеют одну семантическую и нарративную основу.
Они объединены одной моделью воображения с единым семантическим принципом отбора и интерпретации. Этот принцип — некая воображаемая пермская древность. И, как видно по канализационным люкам, дизайну городского транспорта, музею, воображение и производство древности в Перми поставлено на административные рельсы, превратившись в один из элементов программного дизайна городской среды.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Клуб спортивных единоборств
Гандбольный клуб «Пермские медведи»
Спортивный холдинг «Пермские медведи»
Пермский хоккейный клуб «Молот»
Вообще в логотипике пермских организаций медведь используется густо. Здесь пермские спортсмены и интеллектуалы единодушны.
Логотипы классического и политехнического университетов по медвежьей части неотличимы от логотипов спортивных клубов. С одной стороны, умиляющее родство спортивной и ученой фантазии понятно. Медведь, как геральдический знак города и края, укоренен в иконографии пермского звериного стиля. Но все же, с косолапым у нас, кажется, перебор, too much. Что означает недобор в воображении. Или его запрограммированность.
Между тем описанная модель воображения сравнительно молодая. Если не считать ее дальних истоков в XIX веке в фантазиях Дмитрия Смышляева, то она заработала в 1990-е годы. Древняя Пермь строилась в отталкивании от образов советского рабочего города.
Пермь 1960-70-х утверждала себя как центр передовой индустрии, город могучих заводов и прорывных технологий. Именно тогда под напором торжествующего нарратива индустриального центра, города инженеров и рабочих, было решено отнести дату основания города к моменту закладки егошихинского медеплавильного завода в 1723 году. Логику и аргументы выбора новой истории ясно выразил один из участников тогдашней дискуссии, поставивший вопрос ребром: «Императрица или рабочие»? «Первый камень Перми, — с пафосом настаивал журналист, — заложили не Екатерина II и генерал-губернатор Е.П. Кашкин, а простые люди — труженики. Появление нового крупного города на Каме было вызвано не императорскими указами, а <…> трудом и волей народа». Соответственно новой генеалогии, город избрал нового основателя, отца. Им стал птенец гнезда Петрова Василий Никитич Татищев. Вот так «рабочий город, красавец на красавице Каме» свое 250-летие встретил не в 2031 (как бы то полагалось по календарю XIX века), а ударными темпами в 1973. Тогда о пермском зверином стиле думали мало.
Это в 1990-е годы поэты, художники, краеведы, историки и филологи открывали и пропагандировали «пермскую древность» как основание идентичности города. Своего рода ренессансной полноты реализации образ нашей древности достиг в начале 2000-х в романе Алексея Иванова «Сердце Пармы» (2002). На рубеже первого десятилетия нового века пермская культурная революция попыталась сместить акценты воображения. Устремить его в современность и будущее. Но уже в начале 2010-х и отчасти в отталкивании от смысловых акцентов опыта культурной модернизации фантазии филологические и литературные фантазии 1990-х нашли, наконец, поддержку власти, и мало-помалу приобрели статус административной программы и присущее ей масштабирование — вплоть до канализационных люков.
Конечно, архаика как источник воображения города обладает несомненной суггестией. Она так соблазнительно перекликается с популярными нарративами массовой культуры о тайнах древних цивилизаций — Индианой Джонсом, Ларой Крофт, сериалами о викингах и т.п. Тем более, у нас уже есть свой бестселлер — «Сердце Пармы». Скоро подоспеет экранизация. Словом, потенциал такой модели воображения не исчерпан. Хотя признаки тривиализации уже налицо.
Это в 1990-е годы поэты, художники, краеведы, историки и филологи открывали и пропагандировали «пермскую древность» как основание идентичности города. Своего рода ренессансной полноты реализации образ нашей древности достиг в начале 2000-х в романе Алексея Иванова «Сердце Пармы» (2002). На рубеже первого десятилетия нового века пермская культурная революция попыталась сместить акценты воображения. Устремить его в современность и будущее. Но уже в начале 2010-х и отчасти в отталкивании от смысловых акцентов опыта культурной модернизации фантазии филологические и литературные фантазии 1990-х нашли, наконец, поддержку власти, и мало-помалу приобрели статус административной программы и присущее ей масштабирование — вплоть до канализационных люков.
Конечно, архаика как источник воображения города обладает несомненной суггестией. Она так соблазнительно перекликается с популярными нарративами массовой культуры о тайнах древних цивилизаций — Индианой Джонсом, Ларой Крофт, сериалами о викингах и т.п. Тем более, у нас уже есть свой бестселлер — «Сердце Пармы». Скоро подоспеет экранизация. Словом, потенциал такой модели воображения не исчерпан. Хотя признаки тривиализации уже налицо.
Пермская архаика имеет не столько вещественное, явленное в артефактах, сколько лингво-семиотическое основание. Представления о ней связаны не столько с памятниками, сколько с именем города, которое и является главным триггером пермского воображения древности.
Главная особенность пермского семиозиса в том и состоит, что городу-новостройке конца XVIII века — «измышлению административной фантазии» — было волей императрицы даровано древнее, еще в начальной летописи встречающееся имя. Ко времени учреждения города оно жило в русской культуре почти 8 столетий, и его жизнь была отнюдь не пассивно словарная. Благодаря «Житию Стефана Пермского» (конец XIV в.) имя Пермь попало в фокус русской культуры, затем уже в XVIII Пермь была отождествлена с легендарной Биармией исландских саг, а в середине XIX века в честь Пермии-Биармии была названа геологическая эпоха. Помню, как художник-мечтатель Николай Зарубин, один из наших мифотворцев, в беседе со мной обмолвился: «Первые упоминания о Перми относятся к Пермскому периоду…». 250 миллионов лет — вот это древность! Конечно, обмолвка, но она невольно выдает вектор воображения. Древность городу подарила Екатерина Великая и стоит только удивляться нашей неблагодарности, не удостоившей памятника императрицу давшую городу главную его ценность — имя.
Приведу пассаж из очерка Владимира Александровича Поссе о его поездке в Пермь. «Со словом «Пермь», — писал он в далеком 1906, — в нашем представлении связывается что-то очень древнее: пермской называется одна из геологических «систем» или эпох; о «Перми Великой» в связи с «чудью белоглазой» упоминают древнейшие русские летописи; о ней же, как о Биармландии, говорят и скандинавские саги». Сказано это более чем сто лет назад, а звучит более чем злободневно: вот они, лекала современного воображения города. Пермь Великая, Биармия, чудские древности, Пермский период — исчерпывающий перечень концептов, с которыми сегодня работает поставленное на поток воображение Перми. Все они — аспекты семантики имени города. Отмеченное у Поссе неопределенное, но в высшей степени суггестивное «что-то очень древнее» и является почти бездонным источником, питающим доминирующую модель пермского воображения и практики ее репрезентации.
Приведу пассаж из очерка Владимира Александровича Поссе о его поездке в Пермь. «Со словом «Пермь», — писал он в далеком 1906, — в нашем представлении связывается что-то очень древнее: пермской называется одна из геологических «систем» или эпох; о «Перми Великой» в связи с «чудью белоглазой» упоминают древнейшие русские летописи; о ней же, как о Биармландии, говорят и скандинавские саги». Сказано это более чем сто лет назад, а звучит более чем злободневно: вот они, лекала современного воображения города. Пермь Великая, Биармия, чудские древности, Пермский период — исчерпывающий перечень концептов, с которыми сегодня работает поставленное на поток воображение Перми. Все они — аспекты семантики имени города. Отмеченное у Поссе неопределенное, но в высшей степени суггестивное «что-то очень древнее» и является почти бездонным источником, питающим доминирующую модель пермского воображения и практики ее репрезентации.
ИМЯ ГОРОДА — ПОДАРОК И ТРИГГЕР ВООБРАЖЕНИЯ
Но существенней иное: ее темпоральность. Воображение Перми сегодня работает в почти тотальной обращенности к прошлому, пусть это прошлое изобретается сегодня и едва ли не в духе фэнтези. Но в тени воображаемой древности остаются другие возможности истории и современности нашего города. Где вектор нашего будущего?
В Перми есть два выразительных — каждый по-своему — арт-объекта. Оба – вариации на тему триумфальной арки. Дремучие и мощные «Пермские ворота» Николая Полисского и стремительный как восклицательный знак «МИГ на взлете» Владимира Саркисова. Они ведут в разные страны воображения.
Ворота в страны пермского воображения
И это — в символическом плане — не пермская, а скорее молотовская история. МОЛОТОВ/MOLOTOV — вот возможный триггер воображения, устремленного в будущее.
Граффити в Нью-Йорке. Пермский бренд одежды MOLOTOV готовит коллаборацию с граффити-райдером из Нью-Йорка Cope2. Коллекция будет носить название Molotov NY.



ВОРОТА ПОЛИССКОГО
Хотя у творения Николая Полисского немало недоброжелателей именно ими сегодня пользуется воображение города, через них мы вступаем в воображаемую Пермь Великую пермского периода, населенную медведями, фантастическими тварями звериного стиля и пермскими богами.
Миг на взлете
Арка Владимира Саркисова открывает путь к другим и очень слабо затронутым ресурсам пермского воображения. Кстати, в отличие от ворот Полисского, это функциональный объект. «МИГ на взлете» ведет к действующему предприятию двигалестроительной корпорации «Пермские моторы». И это ворота в другой, еще не воображенный город. У него другая история. Ее открыли творец пермского «Царь-молота» Николай Васильевич Воронцов и один из создателей электродуговой сварки Николай Гаврилович Славянов.